Символизм и авангард в венгерской литературе начала XX века. (В сопоставление с опытом русской литературы)
Оглавление
Символизм и авангард в венгерской литературе начала XX века. (В сопоставление с опытом русской литературы)
Библиография
1. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
2. Мукаржовский Я. Структуральная поэтика. М., 1996.
3. Маяковский В.В. Полное собр. соч. в 13-и т. М., 1955. Т. 1.
4. Электронный ресурс: http://soshinenie.ru/italyanskij-futurizm-manifest-o-futurizme-f-marinetti/
5. Kocogh Á. Az expresszionizmus. Budapest, 967.
6. Rónay Gy. Kassák és az izmusok // Irodalomtörténet. 1959. 1.sz.
7. Kassák L. Egy ember élete. Budapest, 1966.
8. Kappanyos A. Tánc az élen. Ötletek az avantgardról. Budapest, 2008.
9. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
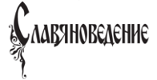
Комментарии
Сообщения не найдены