Библиография
1. Marijan D. Suvremena hrvatska povijest i nevolje s revizionizmom // Časopis za suvremenu povijest. 2019. Br. 2.
2. Goldstein I., Goldstein S. Holokaust u Zagrebu. Zagreb, 2001.
3. Goldstein I., Hutinac G. Neki aspekti revizionizma u hrvatskoj historiografiji // Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije: zbornik radova. Sarajevo, 2007.
4. Kuljić T. Kultura sećanja: Teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd, 2006.
5. Kuljić T. Prevladavanje prošlosti: uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka. Beograd, 2002.
6. Ilić V. Oblici kritike socijalizma Zrenjanin Gradska narodna biblioteka «Ž. Zrenjanin», Zrenjanin:1998.
7. Тимофеев А.Ю. Корни исторического ревизионизма и сохранение исторической памяти о гражданской войне 1941–1945 гг. в современной Сербии // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2020 (в печати).
8. Kamberović H. Između kritičke historiografije i ideološkog revizionizma // Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije: zbornik radova. Sarajevo, 2007.
9. Petrović V. (Ne)legitimni revizionizam: pravo i (pseudo)istoriografske revizije na zapadu i istoku // Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije: zbornik radova. Sarajevo, 2007.
10. Petrović V. From Revisionism to «Revisionism»: Legal Limits to Historical Interpretation // Past in the Making: Historical Revisionism in Central Europe After 1989 / Ed. by Michal Kopeček. Budapest, 2009.
11. Миллер А.И. Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти // Полития. 2016. № 1 (80).
12. Karačić D., Banjeglav T., Govedarica N. Re:vizija prošlosti: politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990. godine. Sarajevo, 2012.
13. Vuković Đ. Društvo u sumraku: ogledi iz političke kulture. Sarajevo, 2019.
14. Cipek T. Historijski revizionizam u Bosni i Hercegovini. Socijaldemokratska politika sjećanja između dva totalitarizma. Sarajevo, 2019.
15. Pred izazovima revizionističkih historiografija: regionalni kontekst: zbornik radova / Ured. M. Bešlin, H. Kamberović, A. Prekić. Sarajevo, 2020.
16. Antifašizam pred izazovima savremenosti / Ured. M. Bešlin i P. Atanacković. Novi Sad, 2012.
17. Milošević S. Istorijski revizionizam i društveni kontekst // Politicka upotreba prošlosti: O istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru: zbornik radova / Ured. M. Samardžić, M. Bešlin, S. Milošević. Novi Sad, 2013.
18. Касьянов Г. Украина и соседи: историческая политика 1987–2018. М.: Новое литературное обозрение, 2019.
19. Manolović-Pintar O. Javni prostor – forum ili ring? // Helsinški bilten. Br. 153. Decembar 2019. O istorijskom revizionizmu. S. 3–5.
20. Marijan D. O znanosti, ideologiji i totalitarnoj svijesti u nedovršenoj hrvatskoj tranziciji – odgovor Mirjani Kasapović // Časopis za suvremenu povijest. 2020. Br. 1.
21. Kasapović М. Povijest, povijesni revizionizam i politike povijesti // Časopis za suvremenu povijest. 2019. Br. 3.
22. Kasapović M. Genocid u NDH: Umanjivanje, banaliziranje i poricanje zločina // Politička misao. 2018. Br. 1.
23. Jurak K. Revizija revizionizma. Prilog raspravi Davora Marijana i Mirjane Kasapović – dio prvi // Portal hrvatske historiografije. 24.04.2020. URL: http://www.historiografija.hr/?p=20499 (дата обращения 26.04.2020).
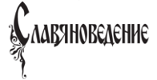
Комментарии
Сообщения не найдены